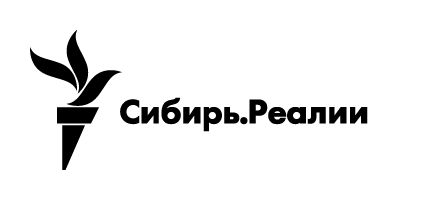Россияне начали вывозить больше золота из страны. В начале ноября замглавы Минфина Алексей Моисеев предложил ограничить экспорт золота физическими лицами. В Госдуме уже обсуждается законопроект об ужесточении уголовной ответственности за незаконный оборот драгоценных металлов. Между тем золотые резервы России по итогам сентября 2023 года увеличились до 2,36 тыс. т, что стало рекордным показателем в современной истории страны и позволило РФ занять пятое место по уровню золотого запаса в мире*.
95 процентов всего российского золота добывается в Сибири, но из-за санкций государству становится его все труднее продавать, поскольку выход на крупнейшие международные рынки драгоценных металлов теперь практически перекрыт. Над золотым запасом, который превышает 2200 тонн и продолжает неуклонно расти, впервые в истории страны нависла угроза стать "неликвидом", складом с бессмысленными кубиками "желтого металла", которые не так-то просто превратить в реальные деньги. Откуда возник этот исполинский золотой запас и почему именно Сибирь стала флагманом отечественной золотодобычи?
Немного удачи и кайло
Началу поисков золота в Сибири способствовал указ Сената, выпущенный в 1812 году, в разгар войны с Наполеоном, когда (как и при любой войне) казне было необходимо золото. Указ этот давал права "всем Российским подданным отыскивать и разрабатывать золотые и серебряные руды с платежом в казну подати".
Ну как – всем подданным?
Разумеется, купцам и дворянам, кому же еще. Дворяне, занятые войной и другими светскими мероприятиями, встретили указ довольно равнодушно, но купцы сразу встрепенулись. Уральские прииски к тому моменту были сплошь и рядом разведаны, все богатые участки государство давно "прибрало к рукам", но оставалась еще бескрайняя Сибирь! Вот только есть ли там золото?
В 1827 году выяснилось, что точно – есть.
Именно тогда пошли слухи, что некий крестьянин Егор Лесной обнаружил золото на реке Сухой Берикуль в Томской губернии, но место своей находки держит в секрете. Как только об этом узнали на Урале, в деревню, где жил крестьянин, отправились купцы Поповы – чтобы, как говорится, "сделать ему предложение, от которого нельзя отказаться". Однако они немного опоздали. Незадолго до их приезда Егор скончался самым противоестественным образом, какой-то нелепой и насильственной смертью. Видимо, кто-то успел полюбопытствовать раньше.
Но зато уцелела падчерица Лесного, которую тот брал с собой в тайгу. Девочка охотно показала купцам те места, куда водил ее Егор, и вскоре они обнаружили земляные шурфы и раскопы. Копнули там, копнули неподалеку – вот они, золотоносные жилы!
В нищете, но с размахом
За считаные месяцы уральские купцы разведали в окрестностях крупнейшую и богатейшую золотоносную провинцию и основали прииски на Сухом и Мокром Берикуле. В первый год им удалось добыть пуд золота, на следующий – четыре, потом шестнадцать, и так далее… К 1835 году у Поповых в Сибири имелось уже более 100 приисков, они открыли золото на притоках Кии, Салаирском кряже, в Красноярском, Ачинском, Канском и Нижнеудинском округах. По их стопам потянулись другие промышленники: Рязанов, Казанцев, Баландин и еще десятки искателей удачи.
Для того чтобы начать свое дело, требовалось совсем немного элементарного инструмента: кайло, лопата, тачка и "шлюзки" с решеткой для промывки руды – эти орудия были, конечно, малопроизводительны, но даже с ними на богатых золотоносных россыпях можно было неплохо преуспеть. Особенно если нанять побольше работников.
К счастью, в Сибири на тот момент уже имелся немалый "человеческий потенциал": ссыльные и каторжники, из которых составляли разведочные партии. Достаточно было немного потратиться на лопаты и тачки, организовать поставки продуктов, а дальше дело шло само собой. Сотни маленьких старательских групп промывали золото вдоль рек и открывали новые богатые места. По их стопам отправлялись подводы и тянулись уже тысячи рабочих, начинавших промышленную разработку месторождений.
На этот промысел, суливший быстрые деньги, народ собирался со всей России. За считаные годы население многих сибирских поселков и городов увеличилось многократно: например, небольшой Красноярск с 1830 по 1835 год вырос в десять раз, с тысячи до 10 000 человек. Еще бы, ведь золото находили даже в его окрестностях, на реке Бугаче, на Афонтовой горе.
На скорую руку строились бараки, открывались кабаки и другие увеселительные заведения, приносившие хозяевам немалый доход. Народ ведь в город приезжал лихой и бесшабашный, и атмосфера была соответствующая: кутежи, драки, пьянство, воровство… Жили, как говорится, в нищете, но с размахом.
Нравы золотоискателей той поры подробно описал в своем романе "Угрюм-река" сибирский писатель Вячеслав Шишков.
"– А вот, братцы, стория… Ну истинная быль, – прохрипел молчаливый верзила Филька Шкворень и пощупал притаившийся в кармане золотой комок. – Брел я как‑то по непролазной трещобе, по тайге. То есть прямо скажу, собака не проскочит. Вот чаща! И натакался я на два мертвых тела. Душина, как от стервы, как от падали. Я нос зажал, подошел. Змея черная пырсь от них, да виль‑виль, в трещобу. По спине у меня мороз. Окстился, передернул плечами, гляжу: оба мертвых тела ликом низ, быдто землю нюхают. Голова у одного напополам топором распластана, у другого дыра в виске – пуля до смерти поцеловала. Эге! Да ведь это Тришка Мокроус, усищи – во! Хищник он был. И намыли они золота пуда полтора с другим бродяжкой, у которого башка разрублена. И вышли вдвоем в путь‑дорогу. При мне было дело, при моей, значит, бытности. Раскинул я умом, – ну, значит, ясно, не надо и к ворожее ходить. Значит, было так. Заблудились они, жрать нечего, отощали. У Мокроуса топоришко, он и замыслил убить во сне товарища, золотом завладеть и человечинкой отъесться. Вот ладно. Разрубил приятелю башку и только хотел освежевать, а ему пуля вот в это место – хлоп! Вышел лиходей чалдон из чащи с ружьецом, взял золотишко и – домой. Вот как должно быть дело. Золото оно – ого! – грех в нем.
– Неужели человеческое мясо едят? – спросил студент. Он лежал на животе, записывал в книжку таежные рассказы.
– Едят, дружок, едят.
– И ты ел?
– Кто, я? – и огромный Филька Шкворень встал, как крокодил, на четыре лапы. – Было дело, ел. Человечинка сладимая, как сахар.
Все сплюнули. Стали укладываться спать. Шкворень сказал:
– Правильно говорится: "Золото мыть – голосом выть".
Шишков В.Я. Угрюм-река
Но сибирских купцов моральный облик старателей не интересовал – пусть хоть друг друга едят, лишь бы золото мыли. В лучшие годы (а "лучшими" принято считать двадцать лет, с начала 30-х до начала 50-х годов XIX века) на каждый вложенный рубль золотопромышленники получали за год до 850 рублей прибыли!
Таежный Наполеон
Об этой эпохе ходят легенды. Рассказывают, например, о визитных карточках из чистого золота, которые заказал для себя один из преуспевших золотоискателей, Николай Мясников; о купаниях в шампанском, о роскошных пирах посреди тайги и приглашенных из-за границы музыкантах…
Но даже на этом фоне впечатляет история счастливого искателя Гаврилы Машарова, открывшего более ста золотых россыпей. Удача шла ему в руки – как будто он обладал шестым чувством, помогавшим видеть золото под землей.
Он и сам, вероятно, был убежден в своих сверхспособностях, позволявших в любой момент пополнять запасы драгоценного металла, и сам себя "наградил" медалью из чистого золота весом 20 фунтов (более 8 кг) с надписью "Гаврила Машаров – император всея тайги”. За что получил прозвище Таёжный Наполеон.
Широко жил Гаврила Наполеон Машаров! Например, свое шелковое нижнее белье, выписанное из Франции, он распорядился отправлять для стирки исключительно в парижские прачечные. Неизвестно, побывал ли сам Гаврила Машаров хоть раз за границами Российской Империи, но его подштанники съездили во французскую столицу – и не один раз.
Дом он пожелал отгрохать такой, чтобы даже французские короли обзавидовались. Дворец со стеклянными галереями и оранжереями, где зрели ананасы, новое сибирское чудо света. К 1836 году здание было почти достроено, но тут случилась незадача: оказалось, что материалы, их доставка в Сибирь и, главное, работа строителей и архитекторов выходят в такую сумму, которую даже "Император всея тайги" не может осилить.
Тогда Машаров одолжился у других золотопромышленников, охотно дававших в долг феноменально удачливому Гавриле. Стройка возобновилась, но вскоре её бюджет потребовал новых вливаний.
Увлеченный строительством, Гаврила едва успевал отсылать подштанники во Францию, заниматься своими приисками ему было некогда – и те почти перестали приносить доход. То ли управляющие воровали, то ли работники обленились, а вернее всего и то, и другое. Ну что тут поделаешь? Он вновь обратился к соседям за кредитами, однако те почувствовали неладное – и не только отказались финансировать грандиозный проект соседа, но и попросили выданные раньше деньги назад. А коли денег нет – требовали расплатиться приисками, на что Машаров отвечал твердым отказом. Тогда для пущей убедительности Гаврилу заперли в его собственном недостроенном доме, куда подавали раз в несколько дней через окно бутыль воды и каравай хлеба.
Посидев пару недель на голодном пайке, Машаров решил бежать – и тоже на французский манер. Словно граф Монте-Кристо, он начал делать подкоп из подвала своих несостоявшихся "императорских хором". Но потерпел фиаско, в холодную яму сыпалась земля, рыть приходилось по колено в ледяной воде, да к тому же порода становилась все более неподатливой. Вскоре Никита простудился и слег…
Когда, спустя несколько дней кредиторы открыли дом, то увидели бездыханное тело "императора". Но после того, как один из золотодобытчиков залез в вырытую Машаровым яму, о покойном сразу забыли, потому что прямо под домом обнаружилась богатейшая золотая жила, тянувшаяся вдаль на многие версты. В золотую породу и уперся, делая подкоп, "сибирский Мидас", даже на пороге смерти не утративший своих волшебных способностей. Так завершилась земная и подземная жизнь Машарова, но открытый на месте его дома прииск "Гавриловский" с 1844 по 1864 год дал 770 пудов (почти 13 тонн) золота, а его разработка продолжалась ещё четверть века.
"Бежать из этого ада куда глаза глядят!"
Поиски новых золотых жил в Сибири многие годы не останавливались ни на день. В 1853 году в Забайкалье была разведана Шахтаминская россыпь, с небывало высоким содержанием золота – до 250 граммов на тонну, а в 1863 году на севере Иркутской области открыли прииск "Благовещенский", к которому перешло "лидерство" на долгие годы. Тогда же были сделаны заявки на прииски по реке Бодайбо, притоку Витима, и там с золотом оказалось так хорошо, что на этом месте был вскоре основан город – тот самый Бодайбо. Этот район до сегодняшнего дня считается самым "золотоносным" в России.
К концу XIX века Сибирь давала ежегодно 1025 пудов золота – почти три четверти от всей общероссийской добычи. Но технология выработки за десятилетия почти не изменилась: все те же лопаты и деревянные тачки, все такой же изнурительный труд тысяч рабочих. Разве что для промывки руды стали использоваться помпы с приводом от паровых машин, а к дальним приискам протянули узкоколейки.
Так же обстояло дело и на богатых приисках Бодайбо, большинством из которых с начала XX века владело Ленское золотопромышленное товарищество. Одним из самых богатых считался прииск "Надеждинский", где находилось правление Компании. В 1912 году здесь трудилось более 12 тысяч человек, приехавших на заработки со всех концов России. Они спали на нарах в переполненных бараках, работали по 12 часов в сутки, однако их зарплаты (до 55 рублей в месяц) представлялись неслыханно богатыми по российским меркам – в разы больше, чем получал рабочий на столичном заводе.
Впрочем, это богатство в тайге становилось очень относительным: едва ли не половина денег уходила на скудную еду, которая распределялась по талонам компании и стоила немногим дешевле золота, и на съем жилья – если хотелось хотя бы минимального комфорта. Компания "Лензолото" владела в районе буквально всем – дорогами, пароходами, магазинами, больницами – и диктовала свои правила жизни.
Могла бы и дальше владеть, диктовать, процветать. Но компанию погубила жадность менеджеров и слабые нервы одного жандармского ротмистра.
В феврале 1912 года в супе, который подали на обед в рабочей столовой, обнаружилось тухлое мясо. Рабочие возмутились. Началась забастовка, продлившаяся больше месяца. Наконец 4 апреля бастующие решили идти к правлению, здание которого к тому моменту охраняли солдаты и жандармы, державшими винтовки наизготовку.
Испугавшись вида разъяренной толпы (собралось около двух тысяч человек), жандармский ротмистр Трещенков приказал стрелять на поражение – и после трех залпов на земле осталось лежать несколько сотен тел. Толпа рассеялась.
Трупы спешно пытались захоронить, чтобы скрыть масштаб трагедии – но в тот момент, когда убитых начали грузить на подводы, к месту расстрела незаметно приблизился живший в окрестностях политический ссыльный, фотограф-любитель В. П. Корешков, и сделал снимок, который решил судьбу Ленской компании, превратив ее в банкрота.
Снимок, размноженный в десятках экземпляров, Корешков и его друзья передали рабочим, отъезжавшим с приисков. Вскоре фотография попала в Петербург, где ее пересняли в подпольной лаборатории и стали распространять как открытку с соответствующей подписью. Скоро снимок просочился и в оппозиционные газеты.
Это, вероятно, был первый в России случай, когда фотография случайного репортера повернула колесо истории. О "Ленском расстреле" заговорили повсюду. Для расследования дела была назначена правительственная комиссия во главе с Александром Керенским. В Бодайбо инспектирующих ожидало печальное зрелище: только 10% бараков удовлетворяли минимальным требованиям для жилых помещений. После обследования один из членов комиссии Тющевский заявил: "Товарищи, нам здесь делать нечего, нам остаётся одно: посоветовать рабочим поджечь эти прогнившие, вонючие здания и бежать из этого ада куда глаза глядят".
К середине августа большинство рабочих покинули прииски, а часть бараков по какому-то недосмотру и правда сгорела. Давший приказ открыть по рабочим огонь ротмистр Трещенков был уволен со службы, разжалован в рядовые и позднее погиб на фронте. Ну а прииски… Что ж, они перешли к другой компании (или просто под другую вывеску). Бараки отстроились заново – чуть лучше, а может, и чуть хуже прежних. И все началось сначала.
Золотые забои Колымы
Работники дореволюционных приисков Бодайбо не могли даже представить, что условия, в которых они трудились, – это почти рай по сравнению со следующей "золотой сокровищницей", открывшейся в Сибири, на Колыме.
Золото обнаружили там ещё в начале XX века, но серьезные месторождения разведали в 1928 году, на исходе НЭПа, который на Дальнем Востоке подзадержался по сравнению со столицами – и еще давал немного свободы мелким старательским артелям.
Поначалу на Колыму старатели ехали добровольно, и в таком количестве, что склады и магазины небольшой деревушки Олу, ближе всего расположенной к открытым месторождениям, вычищались подчистую. Скоро в деревне начался голод, и власти запретили частным лицам выезд из Охотска в Олу без личных запасов продовольствия.
Дела у вольных старателей шли хорошо, к 1929 году они открыли несколько приисков и уже добывали до 300 килограммов золота в год. Для маленьких артелей совсем неплохо, но, конечно, в масштабах СССР (где добывалось за год 28 тонн) это была капля в море.
Впрочем, партия и правительство всегда знают, как поправить дело. В 1932 году вся частная добыча золота была запрещена, а вместо старательских артелей на Колыме возник знаменитый "Севвостлаг" – один из самых страшных лагерей ОГПУ, в котором "на пике" его деятельности одновременно находилось до 170 тысяч заключенных, причем 120 тысяч были заняты на добыче золота и вольфрама. Вплоть до 1953 года через эту систему прошло около 800 тысяч человек, и не менее 150 тысяч из них погибло.
В тридцатые годы лагерь вообще использовался как своего рода полигон для уничтожения самых опасных противников сталинского режима – оппозиционеров или "троцкистов". "Для того, чтобы здоровый молодой человек, начав свою карьеру в золотом забое на чистом зимнем воздухе, превратился в доходягу, нужен срок по меньшей мере от двадцати до тридцати дней при шестнадцатичасовом рабочем дне, без выходных, при систематическом голоде, рваной одежде и ночёвке в шестидесятиградусный мороз в дырявой брезентовой палатке, побоях десятников, старост из "блатарей", конвоя. Эти сроки многократно проверены", – писал Варлам Шаламов, прошедший через Колыму.
Между тем добыча золота на Колыме достигла фантастических цифр: 51 тонна в 1937 году, 80 тонн в 1940-м. Сталин требовал, чтобы по добыче золота СССР обогнал лидера того времени – Трансвааль (Южная Африка), где добывалось более 300 тонн в год, и это почти удалось: по крайней мере, твердое второе место по золотодобыче (от 130 до 200 тонн) Союзу тогда было обеспечено. Но какой ценой…
"Складывают, как дрова"
В 1938 году Сталин, вручая начальникам "Севвостлага" награды за успехи, решил поинтересоваться, как работают заключенные. "Живут в крайне тяжёлых условиях, питаются плохо, а трудятся на тяжелейших работах. Многие умирают. Трупы складывают штабелями, как дрова, до весны…" – будто бы честно ответили ему один из начальников. Сталин усмехнулся: "Складывают, как дрова… А знаете, чем больше будет подыхать врагов народа, тем лучше для нас".
В 1953 году, когда кремлевский горец навсегда отошел от дел земных, в закромах СССР хранился гигантский запас золота в слитках. На момент смерти вождя – более 2050 тонн, самый высокий на тот момент показатель за всю историю страны. Потом, при Хрущеве, они стали "таять", почти полностью сошли на нет к середине 90-х, а потом снова начал расти… По странному совпадению, примерно столько же золота, даже чуть больше – 2300 тонн – находилось в хранилищах Центробанка России на начало 2022 года.
Интересно, к чему бы такие совпадения?
* Текст из архива Сибирь.Реалии