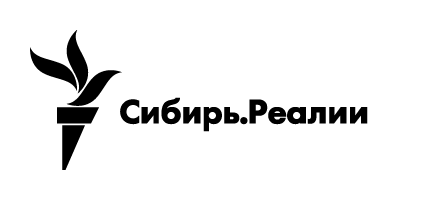Два года назад, 16 февраля 2024 года в колонии строгого режима в поселке Харп погиб лидер российской оппозиции Алексей Навальный, отбывавший 19-летний срок лишения свободы. Российские власти пытались выдать его смерть за естественную, однако 14 февраля 2026 года министерства иностранных дел пяти европейских стран опубликовали заявление, в котором говорится: Алексей Навальный был отравлен эпибатидином – это вещество обнаружили в биологических материалах, которые удалось вывезти из России.
Эпибатидин – сверхтоксичное вещество, которое вырабатывается на коже южноамериканской лягушки-древолаза. В России она не водится, следовательно, яд был синтезирован, и правительства Великобритании, Швеции, Франции, Германии и Нидерландов теперь обвиняют Россию в нарушении конвенции о запрете химического оружия.
Известно, что еще с 2023 года между Россией и странами Запада через посредников шли переговоры об обмене Навального и других российских политзаключенных на офицера ФСБ Вадима Красикова, отбывавшего пожизненный срок в Германии за убийство бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в 2019 году. Гибель Навального затормозила процесс переговоров. Но 1 августа 2024 года "большой обмен" все-таки состоялся. Кремль вернул в Россию восьмерых осужденных на Западе преступников, из российских колоний на свободу вышли 16 политических заключенных.
В числе освобожденных была Ксения Фадеева – бывший депутат Томской городской думы, бывшая глава штаба Навального в Томске. В конце декабря 2023 года Советский районный суд Томска осудил ее на 9 лет колонии по статьям о создании экстремистского сообщества с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 282.1 УК) и участии в НКО, посягающей на права граждан (ч. 3 ст. 239 УК), а фактически – за работу в структурах Алексея Навального.
Сегодня Ксения живет в Вильнюсе, работает в проекте поддержки политзаключенных "Ты не один", отвечает там за коммуникации и фандрайзинг.
Сибирь.Реалии поговорили с Ксенией о том, кем был и остается Алексей Навальный для России и можно ли "разбазарить" его наследие.
"На этом самолете должен был быть Алексей"
– Ксения, вы в момент обмена думали о том, что в самолете, которым вы все – освобожденные российские политзаключенные – летели в Германию, мог бы быть и Алексей Навальный?
– Эта мысль догнала меня уже в Германии, в госпитале. К нам приехали ребята из ФБК – руководство фонда на тот момент: Мария Певчих, Леонид Волков, Иван Жданов. Привезли цветы, какие-то вещи первой необходимости: кто-то же был вообще в тюремных робах. У меня гражданской одежды было по минимуму – только то, что смогла взять из колонии. И когда они приехали, постепенно настигла мысль: конечно, на этом самолете должен был быть Алексей. Потом стали известны подробности – что обмен Навального долго готовился и должен был состояться как раз в тех числах, когда его в итоге убили.
– Как вы узнали о его гибели?
– Я была в Томском СИЗО и узнала из новостей по Первому каналу. Сухая фраза ведущего – без подробностей, просто пересказ пресс-релиза ФСИН. Это была пятница. Потом суббота-воскресенье: новостей нет, письма не приходят, адвокаты не приходят. И у меня очень долго держалось отрицание. Я вообще не могла в это поверить. Фраза "я не могу в это поверить" всегда казалась какой-то абстрактной, а тут я прямо почувствовала: тебе сообщают новость, в которую невозможно поверить. Поэтому у меня не было истерики, я не плакала – я была в ступоре, и реальность потом долго догоняла.
– У многих в тот день возникло ощущение: Россию лишили будущего. А у вас?
– Я думаю, Алексей бы точно не хотел, чтобы мы так думали. Он всегда призывал не унывать и не отчаиваться, продолжать работу – каждому в своей сфере. Да, каждый человек переживает утрату и горе по-своему. Но мне кажется, мы не можем позволить себе впасть в апатию и поверить, что у нашей страны нет будущего. Потому что если мы поверим, что все кончено и зло победило – оно действительно победит. Этого они и добиваются: чтобы журналисты перестали делать работу, политики – заниматься политикой, расследователи – выпускать расследования. Это то, что нужно тем, кто Навального убил. Мы не можем себе позволить отчаяться окончательно.
– У вас есть внутреннее понимание, почему он решил вернуться в Россию после отравления?
– Да. Он сам об этом говорил – и я его очень хорошо понимаю. Алексей – настоящий российский патриот в хорошем смысле. Я понимаю, насколько словосочетание "российский патриот" сейчас замарано в крови, но я считаю его именно патриотом. Он был российским политиком и совершенно не видел себя вне России. Конечно, мы все задним числом хотели бы, чтобы он не сел в тот самолет. Пусть бы жил рядом с семьей, делал бы расследования, был бы блогером – но был бы жив. Но мне сложно представить, что Навальный решил бы остаться за границей. Это был январь 2021 года: еще не было войны, структура штабов работала по всей России, ФБК были в Москве. Он ощущал ответственность лидера за сторонников. Представить, что он остается за границей, а коллеги в регионах работают в России и продолжают рисковать – для него это было неприемлемо. Главная его мотивация – любовь к своей стране: он не видел себя в отрыве от России.
– Есть точка зрения, что из эмиграции он мог бы сделать для России больше. Согласны?
– Сложно об этом рассуждать. Было бы лучше, чтобы Алексей был жив – без оговорок. Даже если бы он после отравления остался в Германии и сказал: "Все, с меня хватит", это было бы лучше, чем то, что произошло. Но тогда это был бы не Навальный.
– Он мог бы, наверное, стать политиком в изгнании – как Гарри Каспаров, который в эмиграции с 2013 года, или Михаил Ходорковский, который за границей с 2014-го.
– Навальный очень сильно отличался от Каспарова и от Ходорковского. Он чувствовал себя частью российского народа, а российский народ живет в России. Он не представлял себя "эмигрантским политиком". Было бы лучше, чтобы Алексей был жив и был бы сейчас за границей? Конечно. Но тогда это был бы другой человек. И меня раздражают спекуляции в духе "его надо было остановить". Это взрослый смелый мужчина, политик, который бросил вызов одной из самых страшных диктатур нашего времени. Его невозможно было остановить. Он принял решение вернуться, быть со своим народом и разделять его судьбу. И да, вышло так, как вышло. Но если бы он не поступил так – это был бы не Алексей.
"Это был выход из пузыря"
– Какое ваше самое любимое личное воспоминание, связанное с Навальным?
– Мы не то чтобы очень часто виделись: Алексей работал в Москве, я в Томске. Но самая долгая наша встреча была в 2020 году, когда они второй раз приезжали в Томск – во время той поездки по регионам, когда его отравили. Мы тогда много гуляли по городу. Я помню середину августа: хорошая погода, приятное лето. Мы шли по центральным улицам Томска, и Алексея узнавали буквально через одного: подходили, здоровались, обнимались – абсолютно разные люди, не только молодежь. Бабушки-пенсионерки, люди среднего возраста. Это так отличалось от картинки пропаганды про "2% хипстеров внутри Садового кольца". И сейчас это вспоминается как другая жизнь: мы все в России, идем по улице, Навальный на свободе, рядом, живой, с ним общаются люди. Это очень теплое, но и очень горькое воспоминание – потому что этого больше не будет. И даже когда в России все наладится, Алексей по летнему Томску уже никогда не пройдется. Это очень больно.
– Кто для вас Алексей Навальный? Ведь с него началась ваша политическая карьера, но это и привело вас в тюрьму и эмиграцию…
– Я и до штаба Навального интересовалась политикой: с 18 лет была в "Солидарности", потом в "Голосе", устраивала митинги в Томске. К команде Навального я присоединилась уже в 25 лет. А в тюрьму и в эмиграцию меня привели не Навальный и не политика, а Следственный комитет, прокуратура, суд и репрессивный режим. Ответственность точно не на Навальном и не на ФБК. Я осознанно этим занималась и считаю, что занималась законной деятельностью, чтобы мой город и моя страна становились лучше. Алексей для меня – это пример мужества и несгибаемости. Я не могу назвать его другом – мы не были настолько близки. Но он пример – не только для меня, для миллионов.
– Ксения Фадеева, которая пришла на открытие штаба в Томске, и Ксения Фадеева сейчас – это два разных человека?
– Не думаю, что совсем разные. Прошло девять лет – ужас, конечно, как время летит. Да, мои мысли, которые были в тот момент, сейчас кажутся чем-то наивным, после репрессий, войны и всего-всего. Но я плюс-минус тот же человек – просто с большим опытом.
– Когда вы шли на выборы в Томскую гордуму, вы верили, что в России возможна нормальная, цивилизованная политика?
– Да. И сейчас верю – просто прямо сейчас она в России невозможна. Я исторически оптимист. И наши выборы показали, что такая политика возможна: когда власть не бьет граждан по хребту и допускает оппозицию даже на низовом уровне, где разговоры про коммуналку и транспорт, оппозиция побеждает. Мы не "страна третьего мира" и не люди, "генетически непригодные к демократии".
– То есть, те выборы и гордума – это для вас был позитивный опыт ?
– Позитивный. Это был выход из пузыря. Одно дело – штаб и сторонники, другое – улица: ты агитируешь, разговариваешь с разными людьми, которые не всегда разделяют твои ценности. И я почти не сталкивалась с клише вроде "американских денег". Люди реагировали скорее позитивно, удивлялись: как так, молодые ребята с такими смелыми лозунгами не боятся агитировать. И гордума была интересным опытом: ты работаешь в реальном органе власти, взаимодействуешь с чиновниками, учишься договариваться, учишься компромиссам. Я стала депутатом в сентябре 2020-го, а фактически работала до декабря 2021-го – потом на меня надели браслет. Формально мандат был до 2024-го, но реально – год и три месяца.
– В реальной политике люди часто становятся менее радикальными, более склонными к компромиссам. Вы этот эффект ощутили?
– Я никогда не была "суперрадикальной" в смысле "всех перевешать на столбах". Взгляды на Путина и федеральную политику у меня какие были, такие и остались. Но на городском уровне, разобравшись, ты отбрасываешь популизм. Например, можно требовать запретить чиновникам служебные машины. А потом понимаешь: части – да, а части – нет. Этому человеку объективно нужна нормальная машина, потому что он ездит по объектам, которые ломаются один за другим. В деталях я стала менее радикальной – в целом нет.
"Хотелось оставаться в России"
– Что удерживало вас от отъезда за границу, когда многие навальнисты уже уезжали, спасаясь от репрессий?
– Я не смогла уехать эмоционально. Всю жизнь я прожила в Томске: там семья, близкие, любимые люди, собака. Я привязана к городу. И я чувствовала ответственность перед избирателями. Лилию Чанышеву посадили в ноябре 2021-го, прошел год после того, как мы стали депутатами. Мне казалось неправильным: я только что ходила по улицам, обещала отстаивать интересы людей, выступала с трибуны – и вдруг уезжаю в Германию или в Грузию. Здесь нет рационального, просто я не смогла. Хотелось оставаться в России и – да, пафосно звучит – разделять судьбу со своими соотечественниками.
Лилия Чанышева – экс-глава штаба Навального в Уфе, была арестована в ноябре 2021 года по обвинению в организации деятельности экстремистского сообщества. В июне 2023 года Кировский районный суд Уфы приговорил ее к 7,5 годам колонии общего режима, позже срок был снижен до 5 лет. Освобождена 1 августа 2024 года в рамках "большого обмена".
– Когда вы реально оказались за решеткой, вы пожалели, что не уехали?
– Это же был постепенный процесс: сначала уголовное дело, потом полтора года браслет, потом суды, три недели домашний арест, СИЗО, через месяц приговор. Не было ни одного момента, когда бы я подумала: "лучше бы уехала". После приговоров Чанышевой, Останину и 19 лет Навальному было понятно, куда все идет. Это не было потрясением.
– Что вас поддерживало в заключении?
– Близкие – семья, друзья. Никто не отвернулся. Писали даже одноклассники, с которыми я не общалась много лет. И незнакомые люди тоже: приходили пачки писем, все свободное время уходило на чтение и ответы. Письма приходили по понедельникам, средам, пятницам – и я старалась успеть ответить, пока не пришли новые. И еще – ощущение собственной правоты. В женском СИЗО большинство заключенных не политические. В случае с женщинами это обычно кражи или наркотики. И вот это действительно ужас, когда ты своими аморальными поступками, преступлениями просто берешь и рушишь свою жизнь и жизнь своих близких. А я знала, что никому ничего плохого не сделала – и это было внутренней опорой.
– Как вы узнали, что вас будут менять?
– Точно – уже в автобусе у Лефортово, который вез в аэропорт. Но я догадывалась, когда нас привезли в Лефортово на четыре дня. Было понятно, что это точно не новое дело, потому что попросили написать прошение о помиловании. Не помню, что дословно я написала, но там не было признания вины и раскаяния: я написала, что всегда желала добра Томску и России, и просила освободить меня от дальнейшего отбывания наказания. Чувства были смешанные. Эйфории не было – это условная свобода: у меня нет свободы остаться в России. Для близких это было огромное облегчение. Но я понимала: меня везут не в Томск. Я не встречусь с подружками в любимой кафешке, не поеду на дачу с родителями. Меня увозят за границу. Я благодарна тем, кто приложил усилия к обмену, но чувства абсолютного счастья не было.
– Если бы вас спросили заранее, вы бы согласились на обмен?
– Я думаю, что нет. Сейчас, пожив на свободе, трудно представить, что можно добровольно выбрать тюрьму. Но тогда я осознанно осталась в России. Если бы спросили – я бы отказалась. Но никто не спрашивал.
"Если вы хотите людей переубедить – нельзя унижать"
– Как вам далась эмиграция?
– Довольно тяжело эмоционально. Материально мне помогли, здесь есть круг общения, я живу в Вильнюсе. Но фоново все время: все хорошо, но это не дом. До смешного: видишь потрясающие виды – я была в Швейцарии – и мысль: красиво, но не Алтай. Абсолютный бред, но это постоянно. Домой хочется.
– А как у вас решилась проблема с документами – вас ведь без паспорта за границу вывезли?
– Я с внутренним российским паспортом пришла и в литовский департамент миграции, и в российское консульство – и там, и там смотрели странно: "А как вы здесь оказались?" Пришлось объяснять эту долгую историю. В российском загранпаспорте мне сначала отказали. Я подала заявление на пятилетний паспорт, и через четыре месяца пришел отказ: "У вас вступивший в силу приговор суда, вам запрещен выезд из России" – и я читаю это, находясь в Литве. Сотрудница посольства без иронии предложила выдать мне справку для въезда в Россию "прояснить моменты". Потом через месяц они передумали и паспорт все-таки выдали. Пятилетний. Потом подалась на 10-летний – его тоже выдали.
– Вы сотрудничаете с коллегами по ФБК? Есть ощущение, что вы "вернулись в штаб"?
– Я не работаю в ФБК. Они нас встретили в Германии и привезли в Литву. С кем-то общаюсь, с кем-то дружу. Но ощущения "я вернулась в штаб" нет – это была другая жизнь, другая работа, другое время. Но контакт с бывшими коллегами есть.
– Почему, как вам кажется, так изменилось отношение к ФБК, откуда столько хейта и разочарования со стороны вполне оппозиционных Кремлю. людей?
– Это сложная история. Мне кажется, глобальная причина в том, что люди устали и разочаровались. Когда мы были в России, была конкретная деятельность: митинги, расследования, выборы, "умное голосование" – что-то получалось. А сейчас мы оказались там, где оказались: война, репрессии нарастают. Есть общее чувство бессилия: мы всё-всё делали, а итог вот. Это не обида, скорее раздраженность и усталость. ФБК – политическая организация, она делает ошибки, резкие заявления, и сталкивается с критикой. Критика нормальна, любой политической организации критика на пользу. Есть и внутривидовая борьба: старые обиды, новые претензии, все поснимали расследования друг про друга… Поэтому имеем, что имеем.
– ФБК сейчас – реальная политическая сила?
– Это до сих пор одна из ведущих политических организаций, я считаю. ФБК образца 2020 года и нынешний ФБК – разные истории: тогда мы все были в России. Штабы Навального были самой популярной оппозиционной силой, центром притяжения активистов. Экологи, зоозащитники, коммунисты, националисты, либертарианцы, "яблочники", феминистки – все собирались в штабах. Сейчас время другое: сети внутри России быть не может. ФБК в кризисе – как и, по большому счету, вся политика в изгнании. Но они остаются одной из ведущих российских политических сил – с оговорками про эмиграцию.
– Справедливы ли упреки, что ФБК – это жесткая иерархическая структура, в которой невозможна критика руководства, несогласие какое-то?
– Я в ФБК не работала. В штабе иерархия была: координаторы, региональные менеджеры, руководитель сети – как у любой партии. И, наверное, поэтому штабы были эффективны: это была работа, а не "сегодня раздаю листовки, завтра нет". Но это точно не было похоже на секту. Штабы были довольно автономны, могли сами принимать решения. Конечно, если федеральный штаб объявлял митинг – мы поддерживали. Про нынешний ФБК изнутри я сказать не могу. И учитывая, что там несколько ярких фигур, нельзя сказать, что это "диктатура одного человека".
– Почему, на ваш взгляд, так много в последнее время скандалов возникает вокруг Леонида Волкова?
– Сложно называть "скандалом" ситуацию, когда человека бьют молотком по голове. Просто Волков один из руководителей ФБК, и понятно, что к нему пристальное внимание. За любые его ошибки – а ошибки есть у любого публичного политика – цепляются и предъявляют претензии. Иногда обоснованные, иногда нет.
– К Юлии Навальной тоже "цепляются"? Ее недавнее выступление, где она зачитывала письмо россиянки, которая хотела пойти на войну, восприняли очень неоднозначно…
– Тут нужно понять, кто именно так воспринял. Украинцы, наверное, могут воспринимать любых российских политиков как угодно – на пятый год войны я бы не ждала, что они будут разбираться в мотивациях. Мне близко то, как Юлия Навальная пытается общаться с россиянами. Если вы хотите людей переубедить – нельзя их унижать. В том письме девушка собиралась участвовать в войне – поваром надеялась пойти, не важно кем. Внутри я могу думать, что это аморально и неправильно. Но если вы хотите переубедить, нужно говорить вежливо и уважительно. Представим себе, что Юлию Навальную смотрит какое-то количество людей, которые раздумывают, пойти им на фронт или не пойти. И если вы хотите переубедить тех, кто собрался идти, их нельзя оскорблять – так вы их только оттолкнете. Нужно объяснять на понятном языке: вы пойдете – и вас там убьют. Вот статистика, вот сколько живут штурмовики. Можно апеллировать к морали – война аморальна, вторжение плохо. Но если нужен эффект, иногда надо апеллировать к страху потерять жизнь. Поэтому те претензии мне кажутся неадекватными.
– Много разговоров про наследие Навального. Его "берегут", его "присваивают", часто говорят о том, что в нынешнем ФБК "все разбазарили".
– "Разбазарили наследие" – это резкая фраза, которой часто бросаются те, кто не любит ФБК. Наследие Навального – это люди. Это и ФБК, и те, кто внутри России остается: те, кто волонтерил, работал в штабах, ходил на митинги, наблюдал, участвовал в выборах. Нельзя назвать наследием только организацию или только расследования – это больше. Это движение людей, которые любят свою страну и выступали против этой власти, боролись и продолжают бороться за лучшее будущее. Такое наследие невозможно разбазарить. Навальный вписал себя в российскую историю. Алексей сыграл огромную роль в истории России, и рано или поздно эта роль будет оценена по достоинству.
"Большинство вернулось бы завтра"
– Вы лично продолжаете себя считать политиком?
– Сложно сказать. Политик – это тот, кто борется за власть. А бороться за власть в России или в Томске из Вильнюса проблематично. Наверное, корректнее – общественный деятель: я занимаюсь правозащитной работой, поддержкой политзаключенных. Иногда выступаю на политические темы, пишу. Взгляды не изменились. Но политиком в строгом смысле сейчас себя не назову.
– Вы поддерживаете связь с Россией?
– Да, у меня там родители, бабушка, много друзей. Взаимопонимание сохраняется. Иногда переписываюсь со старыми знакомыми в соцсетях, отвечаю в инстаграме. Общаюсь с подругами вне политики, с друзьями за границей даже удалось повидаться. Никто не отвернулся, потому что я "экстремистка".
– Проблема уехавшей и оставшейся России – реальная или надуманная?
– Скорее надуманная. Ее раздувают недалекие люди с обеих сторон. Совсем маленькая часть уехавших упрекает оставшихся, что те платят налоги, которые идут на войну. Часть оставшихся считает достижением, что "мы остались". Упрекать тех, кто остался дома с семьей и близкими, некорректно. Упрекать уехавших – тоже странно: большинство вернулось бы завтра, если бы за это не грозили сроки. Я говорю про политическую эмиграцию. Это искусственно раздуваемая тема.
– По вашему ощущению, общий язык потом найдется?
– Он уже есть. Я не чувствую проблем в коммуникации с теми, кто в России остался – я про антивоенно-настроенных людей нашего спектра. Мне сложно представить, что, когда уехавшие смогут вернуться, у них будут проблемы с общением.
– Вы хотели бы вернуться в Томск?
– Да. Хоть завтра, я буквально на низком старте. Иллюзий, что это закончится завтра, нет: все может тянуться долго. Но мне 34 года, я надеюсь, что смогу вернуться домой еще не слишком пожилой бабушкой.
– Теоретически: если бы появилась возможность снова встретиться с избирателями – о чем бы вы говорили? Представим, что война закончилась, вы снова можете участвовать в выборах.
– Проблемы в Томске какие были, такие и остались – только усугубились. Я бы вела кампанию так же: говорила бы с людьми на улицах, оставалась бы на связи, была бы максимально открытой. В муниципальной политике это транспорт, дороги, инфраструктура, коммунальные платежи. Об этом бы и говорила – если бы война закончилась и был другой режим. Я с уважением отношусь к тем, кто пытается участвовать в выборах: они прокачивают свои гражданские мышцы. Но им приходится обходить тему войны. Даже если отбросить мораль, нужно объяснять, почему нет денег на трамваи, дороги, вывоз мусора. А денег нет, потому что приоритет государства – война. Ты не можешь это сказать публично: ты тут же сядешь и окажешься на месте Алексея Горинова. Поэтому сегодня я бы точно не стала участвовать в выборах в России: либо ты становишься частью системы, которая все замалчивает, либо моментально оказываешься в тюрьме.
– Вы верите, что война закончится в этом году?
– Я плохой предсказатель, как это видно по моей жизни. И не специалист по геополитике. Я, конечно, слежу за всеми этими бесконечными переговорами, но по моим ощущениям, это все, к сожалению, может тянуться еще довольно долго. У меня нет ощущения, что Путин хочет эту войну заканчивать. Если бы хотел – мог бы закончить сегодня. Может случиться резкое событие, "черный лебедь" для системы, в который хочется верить. Но пока есть ощущение, что Путин хочет продолжать воевать и может делать это еще какое-то время.