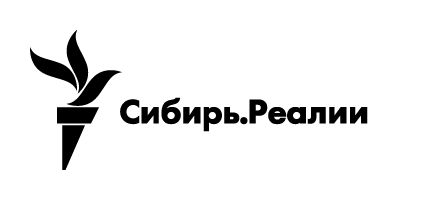90 лет назад, весной 1934 года, вся страна следила за спасением из ледяного плена моряков и ученых с парохода "Челюскин". Это была, наверное, самая громкая победа советской пропаганды – фактический провал научной экспедиции превратился в многодневное радиошоу с хеппи-эндом на американский манер.
Чтобы не пропускать главные материалы Сибирь.Реалии, подпишитесь на наш Youtube, инстаграм и телеграм.
21 мая 1934 года участники экспедиции (большинство из 104 человек), которые провели на дрейфующей льдине более двух месяцев, на пароходе "Сталинград" отправились с Чукотки на Камчатку. Теперь героев можно было встречать. Однако встречать их не спешили. Ждали возвращения начальника экспедиции Отто Шмидта, который долечивал подхваченный на льдине плеврит в США, в госпитале города Ном на Аляске. Только в конце мая экипаж воссоединился и под звуки оркестров, забрасываемый цветами и листовками, отправился на специальном литерном поезде из Владивостока в Москву, где на Красной площади челюскинцев ждала трибуна мавзолея.
У сталинской пропаганды все получилось как по нотам: "Своих не бросаем!" Сначала несколько месяцев – нагнетание драматизма, личные распоряжения Сталина о спасении попавших в беду полярников, а потом – триумф советских летчиков, поразивший весь мир. Спасли всех, включая экспедиционных собак! Мир застыл в восхищении, даже политические враги, даже белоэмигранты. Марина Цветаева в Париже писала: "На льдов произвол ни пса не оставили!.. Сегодня – да здравствует Советский Союз!"
Но на самом деле никакого триумфа могло не быть. Так же как и никакой катастрофы. Просто челюскинцам сильно повезло. Но сначала – не повезло. Вообще, везение и невезение во всей этой истории сменялось одно другим, как сменяются стороны у подброшенной в воздух монеты.
Повезло!
Большая часть команды "Челюскина", как и капитан Владимир Воронин, и начальник экспедиции Шмидт, уже плавали по тому маршруту, каким должен был пройти пароход, то есть по Северному Морскому пути. Буквально за год до того, в 1932-м, на ледокольном пароходе "Александр Сибиряков". И тогда им повезло. Они прорвались через льды, хотя в сражении с ними потеряли гребной винт, и пришлось на самодельные мачты водружать импровизированные брезентовые паруса. Толку от них было немного, но помогла удача. Пока самоотверженные полярники боролись с льдинами, течение "выплюнуло" их в Берингов пролив и вынесло на чистую воду.
Так "Сибиряков" стал первым советским судном, которому удалось пройти Севморпуть с начала до конца. И, что важно, за одну навигацию, то есть без промежуточной зимовки! Это вообще получилось сделать впервые в истории.
Сталин это очень высоко оценил. И немедленно создал управление "Главсевморпуть", начальником которого назначил Шмидта. А в 1933 году от него уже требовали новых потрясающих свершений. Генералиссимусу Северный путь очень нравился, это была стратегическая дорога к Тихому океану, и он распорядился проверить, можно ли пустить по нему обычные пароходы. Разумеется, при поддержке ледоколов. Но ведь на ледоколах-то груз особо не повезешь (они тогда под завязку грузились углем, которого для борьбы со льдами уходило немерено). Значит, надо пустить пароход! Усиленный, "полярный". Но – пароход.
И пароход такой как раз был под рукой. В 1933 году по заказу cоветского правительства датская фирма B&W должна была передать СССР стометровый пароходик "Лена", который, как предполагалось, станет курсировать от устья Лены до Владивостока. Корабль, по мнению датчан, был "ледокольного типа", то есть с усиленной обшивкой и набором. Но в целом пароход как пароход.
Однако не в пароходе же дело! Главное – люди. Шмидт немедленно, еще до приемки судна, "выписал" на него лучших моряков из экипажа "Сибирякова". И разумеется, пригласил капитана Воронина, главного героя предыдущего плавания.
Не повезло!
Воронин на "Сибирякове" действительно сотворил чудо, но, услышав про новый корабль, сильно засомневался. Ему сразу не понравились размеры и пропорции судна, неподходящие для ледового плавания. Когда же "Лена" (под командой капитана Безайса, который заведовал приемкой и испытаниями), пришла из Дании в Ленинград и Шмидт пригласил Воронина на борт, оказалось, что дело обстоит куда хуже: спешно переименованный Шмидтом в "Челюскин" (в честь знаменитого мореплавателя и северного первопроходца) корабль не стал от этого более пригоден для ледовых плаваний.
"Все то, что мне удалось осмотреть, на меня произвело нехорошее впечатление о корабле, – писал позднее Воронин. – Набор корпуса был слаб, шпангоуты редкие, и прочность их не соответствовала для ледокольного судна, да еще предназначенного для работы в Арктике. Я предполагал, что судно будет плохо слушаться руля, что сильно будет затруднять управление во льдах. Все это говорило за то, что "Челюскин" – судно для этого рейса непригодное. Поэтому я не хотел принимать пароход от капитана Безайс. Тем более что "Челюскин" не был принят от фирмы "Бурмейстер и Войн", которая строила "Челюскина".
Да, была еще и такая проблема. Корабль на испытаниях не показал заявленную скорость, а когда паровую машину включили на полный ход, в ней расплавились подшипники. Поэтому судно снова отправилось в Данию для ремонта – но его произвели буквально за несколько дней, ничего толком не исправив. Документы о приемке подписали, что называется, "не глядя". Сроки навигации поджимали, Шмидту нужно было срочно выходить в море, а значит, надо было уговорить Воронина принять на себя командование не вполне готовым к экспедиции кораблем. И тогда Шмидт посоветовал капитану Безайсу пуститься на маленькую хитрость. Вот как вспоминал об этом Воронин:
"Идя из Копенгагена к южным норвежским шхерам, 27-го июля утром приходит ко мне Безайс и просит принять у него временно пароход, т. к. ему необходимо приготовить бумаги и отчеты для Наркомвода. После этой просьбы пошел я к Шмидту и сказал, что временно до Мурманска я принимаю "Челюскин", а вы, Отто Юльевич, заранее дайте телеграмму, чтобы прислали капитана, мне заместителя. На это я получил согласие..."
И конечно, в Мурманске, где Бейзас, ни слова ни говоря, сошел на берег, никакого "другого" капитана не было. Воронин оказался в безвыходном положении: он не мог бросить корабль и команду. С нескрываемым раздражением он записал в своем дневнике:
"Рано утром 10-го августа "Челюскин" пошел из Мурманска во Владивосток. С этих пор я постоянный капитан "Челюскина". Я знаю, что меня ждет и как мне будет трудно вести это суденышко через арктические льды".
Но, как пел Борис Гребенщиков в песне "Капитан Воронин" (хотя песня, конечно, совсем не про "Челюскин", но образ капитана в ней узнаваем):
Капитан Воронин жевал травинку и задумчиво смотрел вокруг.
Он знал, что все видят отраженье в стекле, все слышат неестественный стук,
Но люди верили ему, как отцу, они знали, кто всё должен решить.
Он был известен как тот, кто никогда не спешил, когда некуда больше спешить…
Про Шмидта так, увы, сказать было нельзя. Он как раз спешил. И на его взгляд, перспективы перехода "Челюскина" по Северному Морскому пути были вовсе не такими мрачными. Потому что через льды ему предполагалось идти в сопровождении ледоколов. В этот момент с "западной" стороны маршрута "работал" ледокол "Красин", который как раз должен был обеспечивать проводку каравана пароходов Первой Ленской экспедиции из Архангельска в устье реки Лены и назад. Это было по пути, и "Красин" мог проложить дорогу "Челюскину". А с другой стороны, от Владивостока на Колыму, шли суда Северо-Восточной экспедиции и их сопровождал ледорез "Литке", который мог встретить "Челюскин", если тот попадет в ледяной плен. То есть риск, по идее, был минимальным.
Уверенность в успехе была такой, что на "Челюскин" взяли зимовщиков, которых предполагалось "забросить" на остров Врангеля – уже в самом конце ледового маршрута. Так что на судне оказалась тьма народу: 52 человека судовой команды, 29 человек экспедиционного состава, 29 человек зимовщиков и плотников для острова Врангеля и одна девочка Алла – дочь начальника острова Врангеля. Всего 111 человек, причем из них 10 женщин – ни Шмидт, ни Воронин не верили в дурацкие морские приметы.
Опять повезло
Сначала все шло почти точно по плану. "Челюскин" прошел в сопровождении "Красина" через льды в проливе "Маточкин шар", и достиг одноименного со своим названием мыса Челюскин. Тут льдов практически не было, и ледокол решено было отпустить. "Красин" стремительно направился прочь, но 29 августа налетел на ледяную глыбу, оторвавшую ему гребной винт вместе с валом. Эта авария оказалось роковой для кораблей, ожидавших его в устье Лены, потому что без помощи ледокола вернуться они не могли. Но "Челюскина" это все пока не касалось, он продолжал двигаться вперед.
Только в Чукотском море, уже к концу своего похода, пароход вновь встретился со сплошными льдами – и 23 сентября оказался полностью ими заблокирован в районе прошлогодней аварии "Сибирякова". Но и тут капитан Воронин имел все основания для оптимизма. Во-первых, гребные винты удалось сохранить, и вообще "Челюскин", вопреки его опасениям, пока что находился в сносном состоянии. А во-вторых, течение, как и в прошлый раз, несло льды в нужную сторону. Оптимизм несколько угас в сентябре, когда по радио сообщили, что ледорез "Литке", на который так рассчитывал Шмидт, тоже попал в ледяную ловушку и, выбираясь из нее, превратился буквально в решето: он потерял тысячи заклепок, и за сутки в корпус поступало более двухсот тонн воды, которую экипаж едва успевал откачивать. Но, казалось, "Челюскин" справится и без посторонней помощи. День и ночь команда взрывала лед, стараясь продвинуть судно хотя бы на несколько сонен метров к Востоку, а ветра и течения дружно помогали этому движению. И наконец 4 ноября 1933 года, вместе с ледяным полем, в которое он попал, "Челюскин" вошёл в Берингов пролив. До чистой воды оставались считаные мили.
Снова не повезло
Зимой течения и ветра в Беринговом проливе меняются внезапно. Когда уже казалось, что задача "Челюскина" выполнена и Северный Морской путь пройден, в ночь на 5 ноября льды вдруг остановились, а затем начали движение в противоположную сторону, увлекая корабль на Северо-Запад, в царство полярной ночи.
Воронин отнесся к этому философски и мысленно начал прощаться с судном. Пока Шмидт ежедневно слал по радио доклады в Москву, сообщая, что на "Челюскине" сохраняется "боевой дух" и "задание партии и Сталина будет выполнено", Воронин постепенно готовился к эвакуации. Он прекрасно понимал, что теперь, когда корпус парохода окончательно вмерз в ледяное поле, любая подвижка льдов раздавит его слабые шпангоуты за считанные минуты. Поэтому распорядился заранее вынести на палубу все необходимое – палатки, продукты и даже стройматериалы.
13 февраля 1934 года его предусмотрительность спасла жизнь всего экипажа. Подвижка льда началась неожиданно, и от первого легкого треска обшивки до окончательной катастрофы прошло всего два часа. Но за это время на лед удалось выбросить все, что было приготовлено на палубе. А главное, спастись всем. Вернее, почти всем.
Гидрограф Павел Хмызников вспоминал:
"Первое, что сделали на льду, – устроили перекличку. Не хватало завхоза Бориса Могилевича – на глазах у многих он был сбит бочкой, покатившейся по палубе, и ушел вместе с судном в ледяную пучину…"
Но о завхозе вспоминали недолго (в конце концов, кто в СССР любил завхозов?). Главное, остальные были целы.
Шмидт и Воронин сошли на лед последними и сразу начали руководить разбивкой лагеря. На первую ночь просто поставили палатки – прямо на льду, на скорую руку. В одной из них оборудовали радиорубку, и радист экспедиции Эрнст Кренкель начал настраивать радиостанцию, чтобы отправить радиограмму о катастрофе.
Пока шла настройка передатчика, в приемнике звучала американская радиостанция, и в полярной ночи разносился веселый фокстрот. Шмидт бродил под рвущиеся из динамика ноты из угла в угол палатки в ожидании ответа из Москвы и не находил себе места. Экспедиция погублена, корабль погиб. Что будет дальше? Наверное, их спасут. Почти наверняка. А потом? Выговор? Арест? Расстрел? Или все-таки обойдется?
Повезло-3
Наутро пришла радиограмма: "Шлем героям-челюскинцам горячий большевистский привет. С восхищением следим за вашей героической борьбой… Сталин, Молотов, Ворошилов…"
Сталин обожал спасательные операции. Не так давно, когда ледокол "Красин" спас экспедицию Нобеле, СССР предстал перед всем миром в ореоле прогрессивного и гуманистического государства. Поэтому можно было и повторить. О челюскинцах тотчас начала писать и советская, и вся мировая пресса, ведь за ходом спасательной операции (которая просто обязана закончиться блестящим успехом) должен наблюдать весь мир!
Тут надо, конечно, заметить, что не всякая спасательная операция годилась для сталинского PR. Практически параллельно со спасением челюскинцев шла работа по вызволению больных и умирающих от цинги участников Ленской экспедиции, которые из-за поломки ледокола "Красин" оставались на незапланированную зимовку. Их героически вывозил на стареньком трехмоторном "Юнкерсе" Федор Куканов, легенда советской полярной авиации. До осени 1933 года он совершил 13 рейсов и в одиночку спас более 80 человек – почти столько же, сколько было на "Челюскине"! Однако все это не годилось для гуманистического подвига, потому что половина тех, кого он спас, оказалась заключенными – их в качестве рабочей силы везли в экспедицию под конвоем. К тому же под конец самолет Куканова не выдержал и пришел в полную негодность, так что к моменту, когда пришлось спасать челюскинцев, больших транспортных самолетов на севере у СССР почти не было.
А между тем надежда оставалась только на авиацию. На собачьих упряжках с Чукотки, как хотели сначала, эвакуировать лагерь Шмидта было невозможно: разводья, полыньи, торосы, полярная ночь. Из пассажирских самолетов в ближайших нескольких тысячах километров имелась только парочка двухмоторных АНТ-4, один из которых разбился, пытаясь долететь до поселка Уэлена – ближайшей к льдине челюскинцев точке, где имелся аэродром. Остался всего один. Так что великая всенародная спасательная операция, о которой трубили газеты и ради которой Сталин создал комиссию под председательством Куйбышева "с неограниченными полномочиями", первый месяц велась с помощью одного самолета – и силами одного человека. Героического летчика Анатолия Ляпидевского, "отчаянного летуна", не щадившего своей жизни. При этом и самолет АНТ-4 у него тоже был "героическим", ломавшимся чуть не при каждом полете. Ляпидевскому понадобилось 39 попыток, чтобы найти лагерь Шмидта: чуть не в каждом втором полете отказывали ненадежные моторы, и приходилось возвращаться на аэродром, а низкая облачность и мутные полярные сумерки не давали ему обнаружить полярников. Наконец 5 марта 1934 года в 40-градусный мороз он нашел лагерь.
За это время челюскинцы уже неплохо обжились на льдине. Из сброшенных с корабля досок и кирпичей им удалось построить барак и кухню, и оборудовать рядом с лагерем небольшой аэродром. Увы, только небольшой – дальше мешали торосы и трещины. Узнав, что Ляпидевсвкий вылетел на поиски лагеря, Шмидт давно уже распорядился приготовить к эвакуации женщин и детей.
Аэродром 450 метров в длину – минимальный предел для тяжелого АНТ-4, и пилоту удалось посадить туда самолет "тютелька в тютельку". Но ведь надо еще и взлететь!
"Люди начали целоваться. Шапки бросали в воздух. Кричали: "Да здравствует Красная авиация!", – вспоминал потом Ляпидевский. – Капитан Воронин бросился на шею Шмидта. Окружили меня, обнимают, а у меня одна мысль: как бы отсюда взлететь! Женщины интересовали меня в данный момент только с точки зрения их веса. Гляжу, все женщины толстые, жутко толстые. Меха на них наворочены..."
Короче говоря, в этот момент Ляпидевский повел себя абсолютно не как джентльмен.
– У вас что, все женщины такие толстые? – напрямик спросил он Шмидта, и это вызвало возмущенный гул.
– Что? Мы худенькие!
– Ладно! Давайте, загружайтесь!
Но то ли правда меха было много, то ли что еще – однако женщины в узкую дверь "АНТ-4" действительно пролезали с трудом. Время поджимало, моторы остывали, и Ляпидевский распорядился хватать их за руки и за ноги – и, к их вящему неудовольствию, запихивать в самолет, как дрова. Вскоре все они были на борту. Сделав невероятное усилие и буквально чиркая шасси по торосам, Ляпидевский поднял самолет в воздух и через сорок минут приземлился на аэродроме Уэлена. Первый спасательный рейс состоялся – и, казалось, теперь до окончательного спасения всего экипажа остается несколько дней…
Не повезло – 3
Никто не знал тогда, что следующего успешного рейса челюскинцам придётся ждать еще месяц. На следующий день Ляпидевский снова поднялся в воздух – но на полпути к лагерю Шмидта у него заклинило правый мотор, и он совершил вынужденную посадку на лед. Четыре дня он считался погибшим, пока не добрался пешком до материка с обмороженными ногами. Но что толку – самолет все равно был потерян. А других поблизости не было.
Вернее, были. В Америке, на Аляске.
Туда почти сразу после создания правительственной комиссии (когда она выяснила, сколько у СССР пассажирских самолетов на Чукотке) отправили делегацию советских летчиков для срочной закупки американской техники. Взяли два легких пассажирских самолета "Флистер" и наняли американских механиков (позднее им всем дали советские ордена и пожизненные пенсии за участие в спасении челюскинцев, правда, после начала холодной войны выплачивать деньги прекратили). К сожалению, летчикам Леваневскому и Слепневу не хватало времени, чтобы привыкнуть к новым машинам – и уже во время перелета в Уэлен один из "Флистеров" был потерян. А на другом Слепнев попытался 7 апреля сесть возле лагеря челюскинцев – но сломал стойку шасси, так что с его появлением контингент на льдине не только не уменьшился, а, напротив, увеличился.
Чинить самолет на сорокоградусном морозе (каждый, кто возился на холоде с железками, знает), да еще при отсутствии запчастей – дело крайне мучительное. Но деваться было некуда. И Слепнев вместе с судовыми механиками "Челюскина" импровизировал как мог. В итоге шасси хрупкой американской техники починили ломом, который примотали к стойке с помощью проволоки и таких-то волшебных русских заклинаний.
Повезло ещё раз
Но надо сказать, что, когда американский самолет Слепнева наконец починили, большая часть челюскинцев была уже на материке. Их эвакуировали на машинах, категорически не предназначенных для перевозки пассажиров: на бомбардировщиках и разведчиках Р-5.
Этих небольших одномоторных самолетов в СССР тогда было полным-полно, чуть не тысячи, но, разумеется, не на Севере. Туда их пришлось отправлять сперва по Транссибу, в разобранном виде, а потом "своим ходом" перегонять за полторы тысячи километров. Из пяти машин, которые отправились из Москвы, на аэродром в чукотском становище Ванкареме (где его специально оборудовали, оттуда до льдины челюскинцев было "всего" 150 километров) добралось лишь два самолета. Остальные сломались по пути и совершили вынужденные посадки в тундре (к счастью, пилоты остались живы). Но и этих двух самолетов хватило.
Правда, рассчитаны они были только на пилота и штурмана. В штурманскую кабину Водопьянов, Каманин и Молоков, попеременно садившиеся за штурвалы этих машин, сажали по два человека. Но было в этих самолетах еще место, куда можно загрузить одного или двух человек. Так называемые "Парашютные контейнеры Гроховского". Именно благодаря им все челюскинцы в течение недели оказались на материке.
Почему повезло?
Павел Гроховский, изобретатель этих контейнеров, был личностью неординарной. И очень живучей. Балтийский матрос и участник штурма Зимнего, он отправился на Гражданскую войну комиссаром, однако уже по дороге на фронт был схвачен махновцами и расстрелян (пуля попала в грудь). Впрочем, ранение оказалось не смертельным. Заметив, что комиссар еще двигается, кто-то из махновцев его "дострелил", и снова в грудь. И снова неудачно. Гроховский выжил. И, придя в себя в госпитале, решил посвятить жизнь самому опасному делу, какое можно было тогда представить, – авиации, потому что бояться ему теперь было нечего.
Он выучился на летчика и одновременно ощутил невероятный изобретательский зуд. Гроховский буквально фонтанировал идеями (чаще всего неудачными), одна безумней другой. Он, например, придумал истребитель с саблей (не взлетел), танк на воздушной подушке (не пополз) и бронированные аэросани (не поехали). Но больше всего его интересовали разнообразные способы доставки войск с небес на землю. Например, в специальной коляске без парашюта. Самолет снижался до бреющего, сбрасывал коляску, и она катилась по земле. Сперва планировалось таким образом десантировать собак-диверсантов, но опыты дали сомнительный результат. То есть собаки в этих безумных колясках благополучно приземлялись и оставались живы, но настроение у них настолько портилось, что ни к какой диверсионной деятельности они уже не были пригодны. К тому же умные животные второй раз в коляски залезать отказывались. Тогда Гроховский решил десантировать так людей – и испытал изобретение на себе. Он чудом остался жив, но тоже загрустил и решил проект закрыть. А вместо него придумал свои знаменитые контейнеры для парашютистов (которые, как и все свои изобретения, тоже испытал сам).
В СССР тогда имелась уйма бомбардировщиков. Но в бомбардировщиках для парашютистов места нет. И вот Гроховский придумал подвешивать их под крыльями в фанерных ящиках, как бомбы. Пилот нажимал рычажок, ящики открывались, и парашютисты вываливались. Красота! Гроховский сам так вывалился – и другим велел.
За эти узкие деревянные коробки, похожие на гробы, летчики стали называть Гроховского "Гробовский". Парашютисты тоже были не в восторге. Возможно, как писал позднее инженер Грибовский (sic!) , "Гроховский опередил свое время". Но даже если так, время его скоро догнало. В 1937 году маршал Тухачевский, всячески продвигавший изобретения своего друга Гроховского, был расстрелян как участник "троцкистского заговора", а спустя пять лет очередь дошла и до самого Гроховского.
Изобретения "врага народа" сдали в архив. Контейнеры для парашютистов по прямому назначению так никто и не использовал, но все-таки в 1934 году подобные футляры стояли на многих самолетах Р-5: в них иногда перевозили грузы. И в эвакуации челюскинцев они неожиданно сыграли важнейшую роль. Тут снова повезло.
Конечно, запихнуть в такой контейнер челюскинца в теплой одежде (а иначе никак: в полете потоки ледяного воздуха превращали "гроб" Гроховского в морозильную камеру) было труднейшей задачей. Человека приходилось буквально вбивать в узкий фанерный футляр, а потом вытаскивать оттуда за ноги. К счастью, сам полет занимал меньше часа, и лежавшему в контейнере оставалось только молиться, чтобы пилот случайно не нажал рычажок сброса.
Очень сильно повезло
11 апреля Шмидта, который уже две недели болел плевритом в острой форме, по личному приказу Куйбышева насильно посадили в самолет – и отправили в ближайший госпиталь, который находился в поселке Ном на Аляске. Вывозили его, кстати, как раз на том самом "Флистире" Слепнева, который починили с помощью лома, – и их фотографии обошла все американские газеты: улыбающийся с больничной койки несгибаемый Шмидт и русский лом, приделанный к стойке сломанного шасси. Что-то, по мнению американцев, у них было общее.
За неделю легкие и неприхотливые Р-5 вывезли со льдины всех челюскинцев. И даже экспедиционных собак, как справедливо заметила в своем стихотворении Цветаева. Последним, как положено, льдину покидал капитан и его помощники.
В ночь перед последним рейсом Воронину не спалось, и он вышел осмотреть окрестности. Лагерь накрыла тишина, лишь изредка похрустывал лед. Над головой, впервые за много недель, сияли звезды. Стояла волшебная полярная ночь, впрочем, уже начинавшая уступать свои права полярному дню.
И вдруг (об этом рассказывал замначальника экспедиции Бобров) Воронин пустился на льду в танец, странный и неловкий, но счастливый. Он танцевал как человек, которому удалось обмануть смерть.
13 апреля последним рейсом Воронин, Бобров и Кренкель были вывезены в Ванкарем. А уже 15 апреля, пролетая над местом, где несколько месяцев стоял лагерь, один из пилотов Р-5 с удивлением обнаружил, что никаких строений на льду больше нет. Исчезли и бараки, и палатки, и сигнальная вышка, и даже полоса аэродрома. Огромный ледяной вал подмял все это под себя и опрокинул в морскую пучину.
Что почитать по теме:
1. Поход "Челюскина". М. 1934
2. Б.В.Громов. Гибель "Челюскина". М. 1936
3. "Как мы спасали челюскинцев. М. 1934
4. Челюскинская эпопея. М. 2011
5. Н.Велигжанин. В тени первых Героев. Белые пятна челюскинской эпопеи. М. 2023